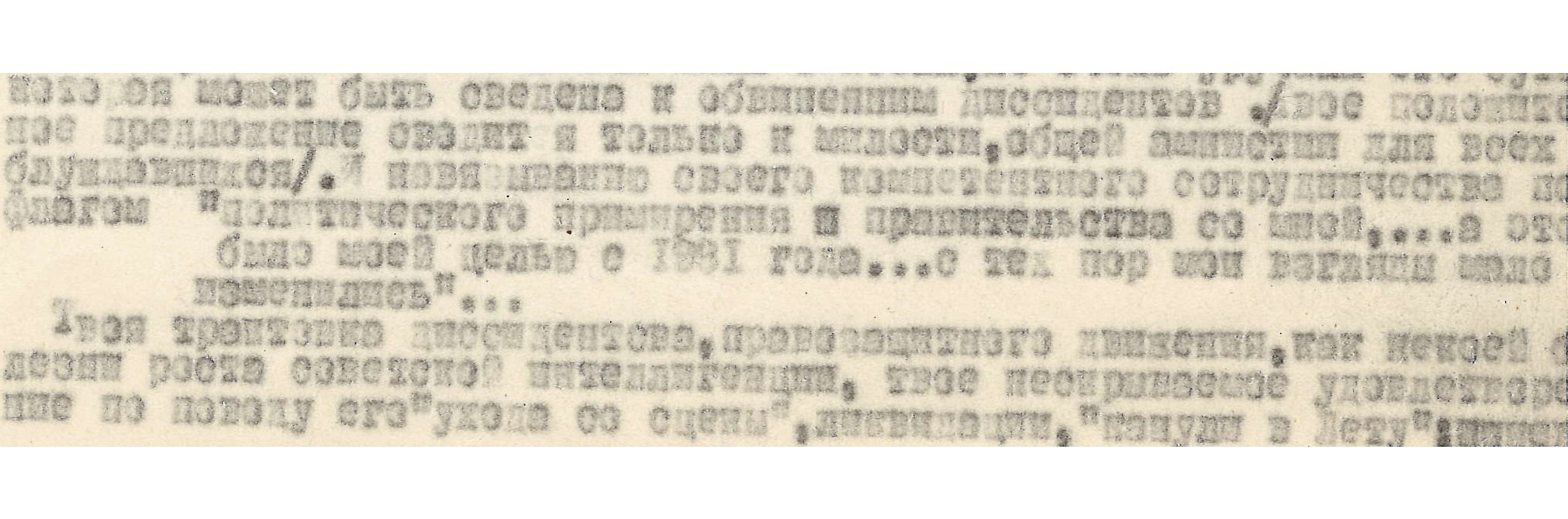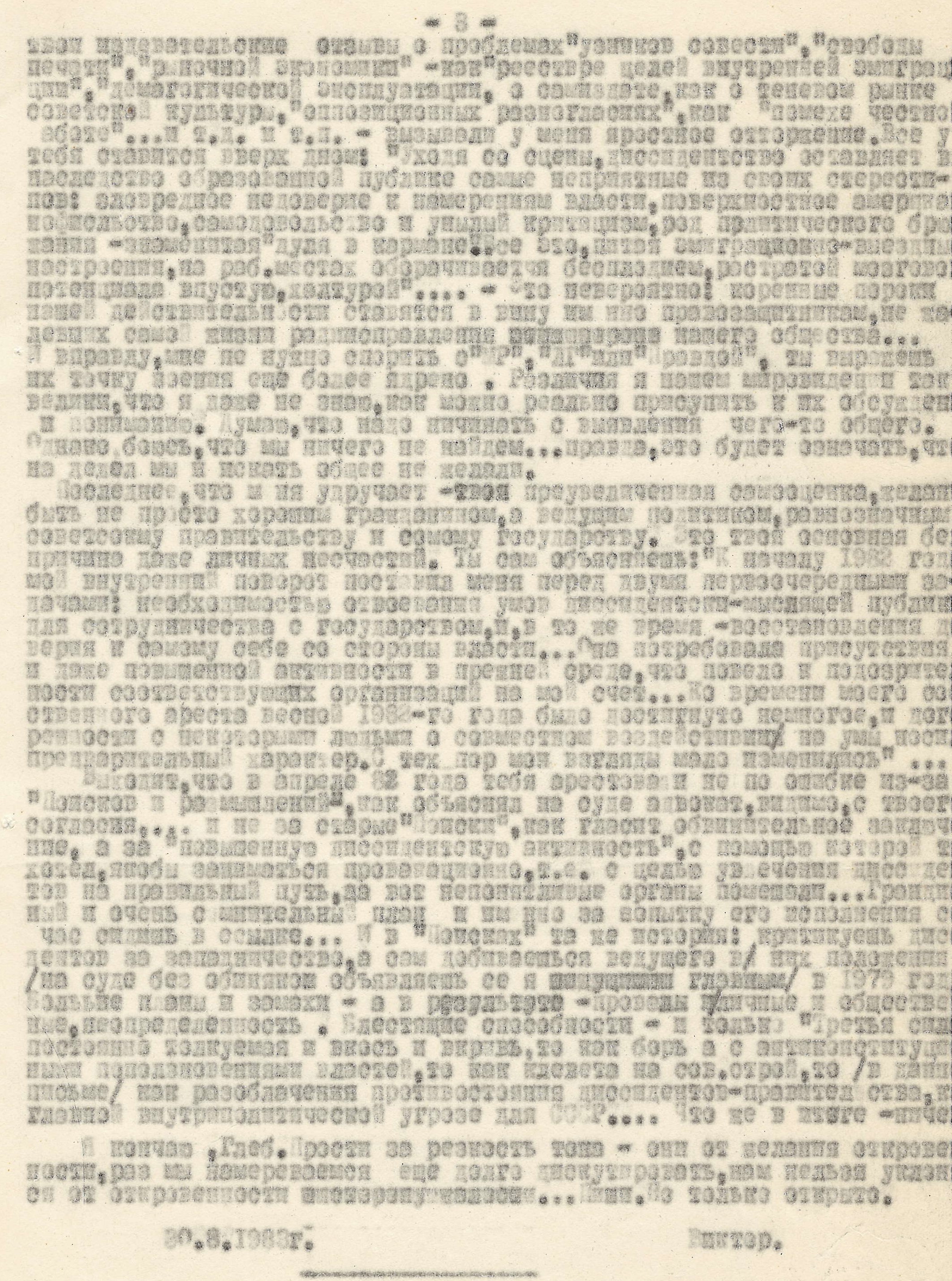Витя, я не стану разбирать твои тексты по суждениям и постранично – это значило бы написать целую книгу о стране и мире, а я к этому не готов. И у меня непременно двойственное отношение ко всему, что ты пишешь и делаешь. При чтении письма в изд-во "МР", я согласен с методом при полном отрицании твоей концепции события (книжицы "С чужого голоса"). Читая твое зимнее обращение к Президенту, я испытываю ощущение головокружительной, но совершенно неуловимой близости видений – но то, что ты предпринимаешь, из рук вон плохо. Вот о том, с чем я не согласен, я и напишу, стараясь не спорить по частностям, т.е. не брюзжать.
Про книжицу "С чужого голоса".
Ты разбираешь текст ее под навязанным, несобственным для текста углом зрения. Так же полезно обсуждать конструкцию унитаза, принимая его за рукомойник.
Книжица – феномен контрпропаганды, а не исследование и не манифестация чьих-то мыслей, хотя бы и официальных. В пропаганде истина – чем бы ее не считали – не может стать темой обсуждения, искания и сомнений, а принимается за константу – притом популярную константу.
Для нас с тобой "Поиски" – это только "Поиски" – то, чем они были, кем были мы, и не мы, и какой след это оставило. Но есть еще "Поиски" – переход наших исканий истины и социального блага – в нашу же попытку этими исканиями (как средством!) обосновать некую политическую позицию, и связать подобные искания с этой позицией наперед.
Говоря в терминах одного моего знакомого,- мозг как орудие истины здесь пытается выступить в функции орудия выгоды. Не личной выгоды – выгоды ситуационной, но выгоды.
Это естественно и неизбежно. Тотальный самоконтроль интеллекта с целью сохранения политической стерильности – самообман. Мозг рискует – и тем только мыслит. Он рискует, предаваясь сомнениям, рискует, доверяясь здравому смыслу; наконец,- он идет ва-банк – решается действовать. Во всяком случае, он чем-то заплатит.
Мы рискнули – политически, с первого же номера связав журнал с диссидентством как с позицией и средой. Диссидентство же феномен, отказывающийся контролировать свое политическое лицо самостоятельно, т.е. вести свою политику – тем передоверяя это дело любому менее застенчивому "замполиту". Поскольку правозащитное движение стало к этому времени объектом массированной пропаганды,- свой пропагандистский "имидж" должны были приобрести "Поиски": спроецировать себя на экран в театре теней – где эта тень представительствовала бы от нашего имени. Так и произошло.
Притом, для пропаганды неважно, продолжает ли существовать вещь физически: ликвидация факта нередко придает добавочный блеск его имиджу – сообщая тени окончательную независимость от тела.
…Я не спорил с имиджем, более того – я популяризировал его в стране и на Западе. Правда, я делал это и не в политических целях, но личное видение безразлично, раз "вещица на рынке". Итак – после физического уничтожения журнала следовало ждать и операции против имиджа – т.е. контрпропагандистской акции. Выйдя на "рынок", мы не можем отказать правительству в праве на контр-рекламу… Реклама везде безразлична к факту, недаром говорят - "это факт – а не реклама". Задача контрпропаганды тоже в пределах политической выгоды: подорвать акции конкурента и внедрить в психику потребителей иррациональное отвращение к исследованию факта и связанных с ним ситуаций.
Я не вижу никакой возможности возражать против этого – вне церковных стен (и никакой возможности в этом лично участвовать). Обычные возражения сводятся к инфантильному требованию, чтобы государство было "задушевным", чтобы львы не ели ягнят, а министры – икры.
Пропаганда и контрпропаганда неизбежны в нашем государстве, как и в любом всемирно озабоченном государстве.- Чего мы вправе требовать от нее, чего должны добиваться и чего можем ждать в итоге наших усилий? Таков, мне кажется, правильный подход к предмету, а ответ на него даст понять, чем скверна книжица.
На первые два вопроса ответ прост: не "правды", а не вреди, - в качестве признанной и законодательно укрепленной государст.максимы.
Пропаганда в политике или сопровождает военные действия, или их заменяет. Обращенная внутрь самого общества, для защиты его целей и ценностей от иностранного натиска, она должна быть предельно "сублимированным" эрзацем" и применяться процедурно и осторожно, подобно ядерным боеголовкам для промышленных нужд. Как и последние, контрпропаганда не должна отравлять среду – не распалять страсти, не вносить раздор в то самое общество, традиции которого она берет под защиту. Мы же наблюдаем путаницу понятий. Правительство, в казенном порядке, заказывает для себя разработку отдельных массово-пропагандистских акций, операций и целых кампаний. Но, в результате их безответственности, непрофессиональной, а то и злонамеренной низовой ангажированности, пущенной по системе политико-воспитательной работы и в прессу – оно само попадает в ситуацию безальтернативного поведения, само превращается в объект им же заказанной пропаганды. И бывают случаи, когда принятие решений продиктовано неадекватным языком постановки задач – языком, бессознательно навязанным агитаторами и журналистами.
Контрпропаганда должна быть открыто подчинена строю государст.институтов и содержательно подчинена идее социального мира в государстве. Иначе она всякий раз будет увлекать власть дальше, чем та готова пойти, и у руля в государстве присоседятся платные писаки, которые не отвечают за последствия и не обязаны их расхлебывать. Запустить в народ агитационный штамп легче, чем его оттуда выковырять. В процессе "борьбы" со сравнительно узкораспространенными иноидеологиями, невежественная контрпропаганда вскармливает мощные теневые стереотипы, складывающиеся в массовую теневую психологию – ничью: ни правительственную, ни оппозиционную, прихотливо сращенную из казенных и оппозиционных сегментов, - фактическую, бессознательную и живую. В качестве целого она выскажется однажды целиком – и можно лишь строить догадки, в какой из неподходящих для страны моментов – до поры прорываясь непонятными вспышками раздражения, усталости, злобы…
Контрпропагандистов надо контролировать и осаживать жестче, чем пропагандистов, изгоняя иезуитов и кликуш. К чему такая охота на самочинную словесность, когда нельзя обуздать платные языки и перья – и не спасет Главлит? Зачем тогда нам и авторитарный порядок, раз мы не пользуемся его законными выгодами?
Что до книжицы, которую ты разбираешь, то она, конечно, представляет некоторый патологический интерес – до таких вещей я всегда был падок – но недостаточный, чтобы взяться его развинтить.
В ней довольно грязи – но в контрпропаганде всегда присутствует грязь, хотя бы и в виде намека, ибо она адресуется ко всяческим фобиям, запретным желаниям и т.п. подпольным этажам общественной психики. Грязь в контрпропаганде отражает догадки как адресата о собственной низости – проецируя их на конкурента. …Один мой соклассник в школе, во время, когда фамилия Солженицын частенько мелькала в газетах – в отрицательном склонении, но еще без определения "литературный власовец" – признался как-то мне, что при одном упоминании этой фамилии у него возникает устойчивое ощущение грязного носка перед лицом,- он был поэт и романтик, простим его. Я запомнил этот эпизод лишь потому, что тогда не решился признаться вслух: и сам я испытывал нечто сходное… Вот пример контрпропагандистского эффекта, причем достигнутого стихийно – в 67-м году термин "контрпропаганда" проходил еще по черным спискам буржуазного лексикона. Эффект – в "освобождении" ума от необходимости присмотреться и усомниться. Запрещать профессионалу этого дела грязные намеки и инсинуации – дело нужное, но абсолютно безнадежное: требуй уж тогда морального обновления общества, к душевному подполью которого обращается "Астангов" со своей "тяжелой, судорожно сжимающейся челюстью"… В идеале, вся эта дрянь должна, сыграв свою роль – выводиться из общественного организма.
Раз пропаганда потенциального противника ловит человека на его человеческих слабостях, обидах, несформулированных выводах – подсовывая ему свои, заранее готовые, как вирус подменяет в клетке генетический код – контрпропаганде ничего другого не остается, как поднять мятеж наинизших страстей и страхов, чтобы их энергией вызвать в человеке спазм закрытости и исторжения "чужого", вражды к "пришлецу". Атака отбита – и спазм разжимается, а человек остается с тем, с чем был – ну, чуть гаже, чем был… Можно заметить, что это скверный метод защиты народных традиций, и им еще злоупотребляют – в том числе и авторы книги. Что возбуждать по поводу неудобного для правительства феномена низменные догадки и побуждения – значит, вести в народе подрывную деятельность за государственный счет. Много чего еще можно сказать, если бы речь шла просто о чьей-то глупой вылазке или измене. Но самое убийственное в книжице другое.
Полное отсутствие политической концепции. Собака лает не просто потому, что ее не кормят и она на цепи, а потому, что она охраняет свой дом. Главное – это, а не та категория лиц, на которую сочли нужным отвязать псов. Псы, которые гоняются за всяким оборванным человеком с веревкой и мешком – не зная, что они, собственно, защищают,- твари злобные и бесполезные, да еще искусать могут. Стоит ли их кормить?
Книжица оставляет ощущение собачьего лая на пустыре.- Разгул. Какие неколебимые начала защищают авторы? О каких верховных нравственных ценностях они напоминают читателю? К какому образу гражданина (а, следовательно, и образу государства) взывает их риторика – и будет ли такой гражданин хранить устои такого государства в мирное время и защищать их во время войны? – Это "основной вопрос" в контрпропаганде.
Задайся им, и ты увидишь в истинном свете книжицу: у тебя появятся аптекарски точные весы для того, чтобы ее взвесить, руководствуясь, согласно принципу Белинского, "законом, ею же над самой признаваемым". …Повторяю, я не хочу сейчас отвлекаться специально на книжицу "С чужого голоса", таких много, и она еще не худшая. Но мне нетрудно было бы показать – и если долг пересилит скуку рыться в дерьме, я это еще сделаю для ее инспираторов – что под "советским человеком" большинство авторов разумеют обывателя, лет сорока, прописанного в столице, но этим недостаточно самоутвержденного, не мыслящего ни о какой работе, если она не за оплату – и очень довольного тем, что, выехавши в Израиль, не удалось избегнуть необходимости брюзжать,- подобно ему самому, никуда не ездившему.
Понятие о государстве у авторов также расслабленное, опасливое и зарплатное – такая вот, с позволенья сказать, контрпропаганда посеяла во мне первые политические сомнения (прокубинского толка) в возрасте поиска идеала. Если б средний русский был таков, каким он видится по книжице и такова была б наша государственность актуально и потенциально – шансов на XXII век у нас не было бы никаких. Но я склонен думать,– перефразируя уважаемого "зануду", что российские тысяча сто лет перевесят их тысячу сто наличными.
…К сожалению, на третий подвопрос из мною предложенных – чего нам ждать от наших требований к контрпропаганде – я отвечу пессимистически:
- а) в него все и тычется: "Теоретически" наглецов и склочников, сикофантов, наживающихся на защите государства – необходимо тут же ловить за руку и обличать их в качестве гражданина государства. Ты это предпринимаешь- честь тебе и слава, так как это небезопасно: оказывается, что эти представители "свободных профессий" в то же время – чиновники, располагающие властью или имеющие доступ к ней. Только тронь чиновника – он тут же завопит "слово и дело" и вступит в микрозаговор с целью твоего погубления – с кем удастся. Чем мельче чиновник, тем охотней он прибегает ко всем мерам, стремясь не кончить "высшей", а, по возможности, ею начать – и лишь неохотно спуститься по лестнице санкций вниз, до данного ему уровня – стараясь, однако, зацепиться и удержаться на всякой высшей ступеньке некомпетентности. А погубить человека иной раз можно и на районном уровне. Этот-то заговор надо пресекать и разоблачать в зародыше – так, чтобы не вступить при этом в оппозицию правительству. Легко ли это?
В журналистах же, работающих на контрпропаганду, мы встретимся с публикой, сквернейшей из скверных,- если просто скверными признавать просто журналистов. Журналисты развращены раболепием общества перед их "корочками". Причина этого сама по себе интересна. Государство как бы отказывается от расчетов на эффективность министерской системы управления, и возлагает упования на все силы, действующие в принципе помимо путаных инстанций: прямо, непосредственно и "лично". Открывая свое мягкое подбрюшье этим двум "институциям", правительство как бы официально разводит руками: мол, велики мы и обильны, а порядку не было и нет – идите и володейте!
Притом они близко стоят к директивным органам (вспомни роль псарей, горничных и брадобреев в истории), охотно пользуясь этой близостью. При этом они не имеют прочного иерархического места, и поэтому малоуязвимы. Частые перемены курса и всей обосновывающей его аргументации – в каждом случае проходившие через журналистскую разработку – выработали у них презрение к абсолютам и истинным устоям страны. (Ты, наверное, слыхивал, как они откровенничают под коньячок).
Но лезть с жалобами в редакции и издательства – на них – все равно, что лезть в болото с обидой на комара. – Съедят. То их вертепы – и при всяком покушении частного лица – и даже государственной организации из системы министерства – на привилегии прессы, пресса объединяется вся как один, от прогрессистов до хунвэйбинов – и тогда, держись, Ванюша! Оставь надежды на прессу – она тебе не союзник в заботе о нравственной экологии государства.
С печатью у нас вообще связаны старинные заблуждения. Взять тот же тезис о "свободе печати". Между тем, у нас при правительственной монополии печати – феодальное пользование средствами массовой информации на уровне издательств и редакции; и реальные их владельцы всегда умеют провести суверена. Эта феодальная свобода печати лично меня заставляет мечтать об абсолютизме: о государственном единодержавии в прессе.
Я, например, не могу понять, почему государственные органы обязаны принимать меры и отчитываться о них в прессе по ее выступлениям? Это рудимент продиктованного демократизма не является, собственно, ни либеральным, ни автократическим,- а строй реального социализма он безнадежно запутывает, превращая прессу в надконституционный институт государства, совершенно выделенный из самого государства. Пресса обладает гигантскими правами – не неся притом никакой ответственности (что отличает ее, кстати, от Комитета). Неразделенность властей порождает довольно проблем, чтобы добавлять к ним еще одну, неразделенную и притом внегосударственную власть. Если выбирать – я выберу Комитет: бюрократия предпочтительнее охлократии.
…Эти и сродственные этим мысли лежат в основе обычного моего отрицания либерального принципа "свободы печати" в качестве политического идеала для нас.
"У вас есть свобода печати (чуть было не сказал пожрать), но нет гласности, т.е. того, чтобы правительство доводило до сведения своего народа состояние государства… Эта беседа правительства с народом об их обоюдных интересах – один из могущественных элементов силы народов. Для такой беседы с народом требуется многое, но прежде всего – мужество" (Гегель)
Прикинув это к книжечке, легко заметить, что она не имеет отношения ни к правительству, ни к народу, ни к "их обоюдным интересам". Всего меньше в ней – мужества. И получился пир лакеев.
Есть царь – а есть псарь, которому место на псарне – и которому должно запретить ауканье и науськивание на граждан государства… В ожидании чего граждане "обязаны позаботиться, чтобы Отечество не потерпело ущерба".
О письме Президенту.
Чем объяснить ощущение твоей правоты – именно твоей, а не твоих предложений? Я не пойму. Но она как бы предшествует своим суждениям и те, при чтении письма, не утоляют нравственного, гражданского аппетита, который ты уверенно возбуждаешь правильно взятым с начала тоном.
Я всегда соглашался с тобой и сейчас с тобой примиряюсь на уровне этой несловесной правоты,- так позволь мне поискать резона в этом согласии, понятия поискать, в интуиции порыться – чтобы не мнениям ответствовать, а опознать самый тон.
"К незакрытому обществу". Так я назвал для себя позапрошлой зимой книгу, собираясь засесть за письменный стол, да так и не собрался,- засадили. Теперь я израсходую на тебя сей простаивающий иероглиф.
Ты мыслишь государством, не отделяясь от него, и тем упраздняя нужду в оппозиционном резонерстве насчет "режима". Дух твоего политического мышления – ответственность, которая сама собой открывает дверь в, казалось, глухой стене, и чем? Только тем, что не требует предварительного согласия с собой, принятия собственных априори – принимая чужие, как условия задачи,- и берясь за ее решение тут же и сообща.
Почему у нас никак не может состояться культура политического мышления? Почему разнообразие идейное не переходит в политическую динамику, а лишь дойдет до дела, идейные люди норовят стать под протекторат чьей-то политики, чьей-то пропаганды?...
Ошибка начинается на старте, т.к. стартовать хотят прямо от идеала – а не от общего дела. Начиная с идеала (безразлично, в чем он) упраздняют изначальную соединенность в народ, в государство – начиная с пустыни, разводят в ней воображаемые помидоры – топча живую травку, а то и выполоть норовят: мешает!
Мы весьма плюралистический народ. Есть у нас демократы, либералы и твердые сталинцы ( а есть романтические), встречается и демократический сталинизм, и монархисты. Социалистов пруд пруди… А республиканцев что-то не видно. Притом, что мы, как будто – союз республик. Но это мыслят как-то мечтательно, ассоциируя с тачанками и Совдепами, а там и до Думы рукой подать, и Учредительное – чуть было не… вот и получается, что на месте исторической почвы одни воспарения: к ним обращаются в поисках подтверждения своего права продаваться, сбывая государству гнилье (=себя). В них рыщут ее аргументами о "искусственности" строя те, кто заинтересован в санкции на его искусственную переделку.- Петроградские сновидения.
Республика же не заговор, не фантазия, а общее дело живых сограждан в его фактическом состоянии (плачевном), объясняющемся только фактическим состоянием (моральным) самих сограждан. И пока в качестве государства мы – республика – государством не могут быть названы никакие его институты, личности, инстанции в отдельности и отвлечения от общего дела. Республика может претерпевать историю, управление ею сдвигаться от митингов к СНК, от СНК к Политбюро – и дальше, дальше… - оставаясь республикой безотносительно к переменам в механике власти, избирательной системы. Республика может отказаться от либеральной догмы "открытого общества" или "прав человека", если граждане и правительство наберутся мудрости и доверия друг к другу – и признают, что не готовы впустить эти инополитические позиции в свою жизнь. Ты мне кажешься именно такой редкой птицей – отечественным республиканцем. Я опускаю при этом манифестируемую либеральную позицию, как не имеющую обязательного отношения к республике. Одно дело "взгляды" – их можно и должно "иметь" и – даже в уме, и умея попридержать язык – но вовсе другой сказ о максиме социального поведения (я много писал об этом в нашем позапрошлогоднем споре, не стану повторяться). – Ни до одной из позиций нет жестко относящейся максимы: можно брать взятки демократом, урывают свое и почвенники, и социалисты часто жулики – экстремистами, попирающими нравы, обычаи и институты СССР кишит не только оппозиция, но и органы борьбы с ней. Республиканское поведение – это поведение на уровне максимы всеобщего законодательства, и оно может политически обосновываться по-разному, в зависимости от философии правительства и человека. Проще говоря – это энергичное и разумное государственничество, консерватизм без "охранительного" комплекса, но прежде всего – это политическая мораль "общего дела" – политика народной общительности. Пока мы действуем – а иногда и боремся – так, "будто" государство есть общая забота нас – и тех, кто о нас и слышать не хочет, и пока предпочитаем устранение нас – гибели государства – республика не мертва. Пока мы ищем в речах и поступках наших недоброжелателей здравый смысл, родственный нашему собственному – и спорим с ними не иначе, как от лица этой априорной общности – еще не "погибла республика", не "наступило царство разбойников".
В иные моменты гражданских войн, декаданса, экономической сытости и казней республика съеживается до считанных республиканцев, трезвых в хоре алкоголиков – до Цицерона, Ключевского, Мандельштама – но это не приравниваемое к нулю состояние, т.к. с теми – молчаливое большинство нации – те, кто пашет, продолжает род и будет его свирепо оборонять на случай войны. – Они не нуль, а "Нулевой рост" – уход в зерно, сосредоточение к духовному метаморфозу.
Нельзя недооценить культурно-политического значения того, что из внутреннего обихода было официально исключено понятие "враг" (хотя из мышления его не исключишь никаким актом). В этом потенция будущего. Это обещает неслыханную стабилизацию, артикулированное срастание всех народных фракций – стабильность, если Бог даст, длиной в эру. Помеха этому – сознание, сложившееся в десятилетия ломок – втягивание масс в революционный быт и сопротивлении этому втягиванию. Это сознание коварно и идеалистично, склонно к розыску во всякой проблеме "ударной темы", "сопротивляющегося звена" чуждой нам природы. Мы все еще правовые и идеологические романтики – но, не ведая, что творят, романтики бывают сущие людоеды. Однако альтернатива не "прагматизм", а только способная к нему политическая культура. Нужна несиюминутная политика, концепция которой мыслилась бы в развертке лет на сто-двести – но не как идеологический финал "всего человечества", а как судьба той реальности, в которой живем. …Судьба Республики.
Твое "письмо вверх" проникнуто этим духом, хотя большинство предложенных решений не отвечают его уровню – уровню всеобщих проблем. Под этим углом зрения его и следует разбирать – от чего я уклоняюсь: не готов. Скажу лишь о том, что мне кажется наибольшим диссонансом – о самом жанре письма Президенту как политическом методе: слабо, и вообще "не то".
В наших условиях это – условный, риторический жест, и это резко не соответствует сути вопросов и твоему ответственному к ним отношению.
В роли поодиночке обращающихся "вверх" мы не можем продуктивно общаться, и тем самым не являемся субъектом тех проблем, о которых заявляем – этим обращением мы как бы препоручаем правительству статистически, или еще как, суммировать нас, и "сделать хоть что-нибудь" – т.е. использовать живое гражданское участие как начальное сырье для неведомых нам манипуляций. - "Придите и володейте"…
Однако с точки зрения правительства, а в особенности любого из предлинной цепи чиновников, участвующих в делегировании власти вниз – мы и так уже достаточно "объединены" – зависимостью от директивно принятых решений – а прочее, это просто наша "избыточная самодеятельность": куда лезет при использовании нами жанра челобитной для постановки вопроса о судьбе Республики, правительство не может воспользоваться как раз нетривиальной – концепционной частью нашей работы, ибо – все, что мы отправляем таким образом, будет определено как жалоба, претензия или донос – а чаще всего соединение этих трех жанров в известной пропорции. Это Жесткий рубрикатор. Боюсь, тебе не удастся его обойти и на этот Ра, разве что добиться, чтобы в отделе "Претензий" завели особенный вкладыш-рубрику – От Сокирко,- тем вкладышем и тебя оградив от общей печальной судьбы претендующих не по чиновному рангу. Я вот не успел добиться вкладыша, как сам сыграл в … "ящичек".
В общем, ты написал, в отделе писем получили, кому-то поручено дать ответ: вот идеальный (с хорошим концом) случай политической переписки с правительством. Теперь скажи, ответь – кто здесь государство? Где в этой загадочной картинке Республика?... Пойми, ты в качестве подданного (и только) – не структурная единица Республики. Мы были политическим "чем-то" в диссидентах: рубрика пожирала одного за другим, одновременно представительствуя о тебе, "кто ты есть". Заявления выражали "диссидентскую точку зрения" на вещи, чем и были интересны: хотя бы для досье. Но, выйдя из диссидентов, ты не вправе размахивать приговором, как удостоверением о гражданственности. Кто ты? Как твоя политическая бессубъективность заявителя может быть увязана (твоим адресатом) с глобальным охватом постановки проблем? Лишь как досужесть. Дело не просто в том, что у тебя нет имени, академического звания и своего института - что немаловажно. Но еще хуже, что отсутствует связь формы поступка с содержанием замысла: призывом к правительству вступить в политическое общение с гражданином (народом) для спасения Республики. Поэтому призыв не прочитывается, а прочитываются лишь суждения, понятые как "частное мнение": т.е. содержанию навязана другая форма, и само содержание – не твое. Построенный тобой канал связи не проводит твою информацию, искажая ее в принципе, превращая в другую информацию (типа "Мнения продиссидентской интеллигенции").
Не достаточный ли это резон, чтобы поискать других путей? Правилом такого поиска мне кажется следующее - прямая речь о проблемах Республики должна быть одновременно признанной процедурой политического общения, независимо от того, согласны с твое речью или нет. Т.е. бытие Республики не должно при этом ставиться под вопрос, в зависимости от исхода подобного разговора (ср. с наукой, где самый резкий спор никогда не ставит под вопрос существование науки как признанной общей почвы спорящих).
…Практически это упирается в такую форму общения частного лица с чиновником, которая бы предрасполагала чиновника к ответственности, а гражданина к достоинству. Ввести это как всеобщую форму невозможно, ввиду невозможности "открытого общества" – так может быть можно ввести ее как форму процедурного конфликта, в котором правительство было бы материально заинтересовано?
Ответа не знаю, а хотелось бы… Глеб. 14.06.83
Приложение
Стр.2. – Само обращение к издателям не лишено демагогичности. Оставляю в стороне тезис о публикации ответов обвиняемых "таким же тиражом и без изъятий" – это уместно предлагать в качестве гипотезы для рассмотрения, но не выдвигать как требование, при его заведомой экзотичности для наших правил. Но даже произойди это чудо, оно не станет "доказательством расцвета свободы и демократии", ибо чудо не доказательство. "Расцвет свободы – недемократический язык, которому нельзя потакать. Расцветом демократии называли в истории всякую гнусность, и ни проверить нельзя было, ни опровергнуть. Нам не нужен сей "расцвет", да и не убежден, что он нам сейчас по карману. Ловить чиновников на словах, утративших семантику, бесполезно, да еще при известных нравах…
Стр.4. Проблема Фонда создается не только источником средств, о чем ты пишешь – да и трудно спасти неправительственную девственность в эпоху огосударствления всех цивилизаций Земли. Не стану спорить с твоим решением проблемы ("Деньги не пахнут" – это правильно) – по личному опыту знаю, что иногда пахнут, хотя купюр ЦРУ не унюхивал. С точки же зрения правительства, Фонд, субсидируя общественных активистов, достраивает их группировки до оппозиции, делая их независимыми от экономического контроля. Для нас важно отметить, что тем самым они становятся экономически независимыми и от общества – того самого, которому вроде бы обязаны внимать. Отсюда возможность политического солипсизма и искусственного разогревания споров при, в действительности, вялой общественной нужде в них. Оттого и многие кодексы прямо запрещают любые иноземные дотации, пахнущие или нет. (Я оставляю в стороне конкретно Фонд, передо мной не отчитывающийся).
Стр.5. "Охотно бы поверил, что в нашей стране нет ни одной преступной госпитализации…" – Не верю. Это статистически невозможно при трехсотмиллионном населении. "…но для этого необходимо, чтобы независимые группы могли контролировать и гарантированно сообщать обществу о прецедентах и возникших подозрениях…"
- Это – условие? В таком случае "прецеденты" не только фактически неизбежны, но и "гарантированны". Чем эпизод госпитализации отличается от эпизода коррупции? Между тем, второй эпизод гораздо более открыт для разоблачительства и преодоления, чем первый; и притом без участия каких-либо "независимых групп". Не в том ли дело, что никто не относит случай взятки на счет социального строя, а госпитализация – в нормах которых тьма прорех – была сразу вменена Центру, без всяких там презумпций невиновности.
Позволь высказать подозрение. "Не затронь госпитализация лично столичную интеллигенцию, не состоялся бы и тезис о "карательной медицине". И дурдом оставался бы – помимо всего прочего – поместным острогом в вотчинах чиновников среднего ранга. Дурдом нуждается в реформе в контексте всей системы здравоохранения. И необходимо акцентировать патологические моменты, которые, собственно, сигнализируют о неотложности вмешательства. Но критика должна быть политически стерильна. Это – условие, если угодно – увы.
- Тезис о "карательной медицине", быть может, и обезопасил какое-то число независимых активистов от принудлечения, но одновременно закрыл весь предмет для конкретного спора. Явно нарушено врачебное "не вреди". Как и во многих случаях других случаях, "вопрос решен" образованием новой привилегии для узкой категории недовольных – одновременно с появлением нового уголовно санкционируемого "табу".
Стр.12. Твой очерк прошлого ДД мне кажется неудовлетворительным. Для личных воспоминаний – чересчур общо и вскользь, для исторической интерполяции – односторонне и читается как "еще одна" манифестация ДД-идеологии. Это не исторический взгляд, а историоморфное обоснование фактической позиции: проекция моральной самоуверенности (или, если угодно, веры) на историю. Сегодня она не нужна ни вашим, ни нашим. Хранящие безоговорочную верность опираются на глубокую, иррациональную веру во внутреннюю истину, а их преследователям историю заменяет досье. В обществе историзм не в чести.
Но если не абсолютизм позиции и не абсолютизм подчинения, то – что? Ты же не пишешь: "Я верую в то, что имело место то-то", – значит, апеллируешь к разуму, а это подразумевает полноту исторического взгляда. Для последнего "гигантские трагические ошибки страны" начинаются все-таки не со злодейств (злодейства приходят под конец – подвести черту и привести в исполнение, именем рока…), а с добродетелей и благих намерений. Вспоминать сейчас такой резон 60-х, как угроза "ресталинизации" сегодня имеет смысл только в контексте ее совершенно очевидной невероятности, анализируя ее как психологический комплекс, с годами все более погружавшийся в подполье разума и все более тормозивший его поползновения к трезвости. И т.д. и т.п. «Уверен, что диссиденты 68 года были правы в этом ощущении". Диссиденты 68 года – само по себе идеологическая фикция, опрокидывание политики в прошлое, вроде "революции рабов в Риме" или "большевистской фракции "Народной воли". А ощущения всегда "правы", но только грех отворачиваться и от ощущений правительства при встрече с явлением политического инакодействия. Правительство (вместе с западной диаспорой) съело диссидентов, но еще до того диссидентство "съело" шестидесятников, фактически расскелетив общество 60-х. Кто виноват? История – в том, что она интересней сочинявшихся нами агиток.
Стр.16. – В свете предыдущего непонятна "уверенность, что, в конце концов, диссиденты окажутся истинными спасителями страны, несмотря на нынешние ошибки". Тем более это непонятно в предложенном тобой самим контексте диалога с официальным издательством. В этом контексте даже при сомнительном беззлобном отношении, твой тезис читается так: "В конце концов, те, кто выступает против идей и действий партийного руководства, призывая руководителей другого блока связать руки Москве, они-то и спасут страну…" Напрашивается Исаевича концовка "…от коммунизма".- Спасителями страны окажутся те, кто в момент реальной и прямой угрозы ее спасут от гибели. Мне непонятна предвзятость: почему это будут диссиденты, которых сегодня уже вообще почто что нет? Не говоря уже о том, что это почти самый худший вариант (худший – гибель), именно потому, что в решающую годину спасителями редко оказываются наиболее достойные, да и особенно крутить носом не приходится: либо-либо…
Стр.16-17. Журналисты. Они профессионально и всемирно столь же продажны, сколь сенсациелюбивы. Недаром они всегда в авангарде всех либерализаций – и как раз самые партийные по прошлой биографии. Дай им волю – и они в тот же день – и тоже "не отходя от кассы" – станут сочинять статьи вроде "После шторма". Нигде реформаторство не скользит по маслу так, как в прессе: лишь чуть-чуть ее расцензурь. Статья о Розовайкине отнюдь не "правдива", а криклива и демагогична, будто списана со статей "Руде право" апреля 68-го. Она не честна, странно этого не видеть – ее пафос продиктован не ее содержанием, а, видимо, указанием устроить головомойку одесскому истэблишменту: и, разумеется, не за Розовайкина. Это – порка, а не защита социальных ценностей: эрзац "сочинской бани", а не прелюдия к ней (да и хотел бы ты "всесоюзного Сочи"?) Самое неприятное в этой статье как раз то, что потрафляет читателю: многозначительные намеки на нетронутых "многоопытных людей" наверху – на некие темные властительные указания главных виновников, которых, якобы, еще предстоит разоблачить, но, увы, у инициаторов статьи, якобы, на это недостает сил. Характерный прием "Литерарних листов". Здесь он применим как сильнодействующая угроза вполне конкретным лицам, которых мы не знаем, но которые должны понять и учесть: что учесть, мы тоже не знаем, но отнюдь не идею законности. "А если бы Розовайкин сразу обратился в независимый от власти орган,… то убежден, что таких беззаконий с ним не творили б…" – потому, что он перешел бы в иную ведомственную компетенцию – с иными методами принуждения и иными привилегиями. Твое "если бы" – аналогично "если бы Розовайкин был племянником секретаря Одесского обкома": в последнем случае беззаконий в отношении него вовсе не было б. Даже будь он слегка причастен к финансовой мистике в мореходке. Диссиденты редко, реже, чем обычные люди, подвергаются житейским превратностям, на них почти не нападают хулиганы, не наезжают машины, не обкрадывают воры… Эта грустная привилегия кончается продлением срока.
Стр.26. "…меняйте закон. …Пусть все будет честно… лучше жить при плохих законах, чем совсем без законов" – хорошее место. Один из центральных пунктов, в которых приходится прощаться с идеей (и идеологией) либерализации. Не придумывать наилучшее новое и после его "внедрять", а проследить и избирательно кодифицировать, упорядочить статус-кво. Лучше закон о печати, чем болото бесконечных редактирований. Лучше "закон о защите государства", чем вторые сроки… (неокончено)
Ответ – сразу:
Здравствуй, Глеб, спешу ответить тебе благодарностью за разбор и отзыв. И поделиться первой реакцией, тем более что не уверен, что смогу в будущем ответить тебе более основательно. Ведь по закону равнодействия, мое отношение к твоим текстам не менее противоречиво – восхищение от стиля, афористичности, глубины перебивается еще более явным несогласием, отрицанием и даже негодованием. И заметь – не сходимся мы больше всего в содержании, сути "мнений", что подтверждает, как мне кажется, наши различие и мое понимание тебя, как самого талантливого на сегодня защитника нынешнего государства, сохранения статус-кво (талантливого не в качестве "защитника", а самого по себе и для себя).
1. Твой упрек, что я серьезно отнесся к сборнику "С чужого голоса", а через него и к обсуждаемым им темам, я отвергаю, как обычное интеллигентское высокомерие, типичный образец плохого диссидентства, не желающего унижаться разговорами с "ними". Но ведь я прекрасно знаю, что ты разговариваешь с "ними", хотя они и на службе… Так зачем тогда передо мною разыгрывать чистоплюя? И отвергать чужие доводы сразу, априори, с порога лишь на том основании, что сборник написан "ими" и, наверняка, в контрпропагандистских целях (что совсем необязательно должно исключать убежденность авторов). Они почитают свой сборник за "рукомойник", ты – за унитаз, я вижу и то, и другое, и пытаюсь почистить замаранную рукомойную часть. В отзыве на письмо Андропову ты меня за это хвалишь, за то, что не требую заранее согласия с собой, как главное свойство гражданина. Здесь же – обругиваешь. Глеб, так путаться – скучно, неужели это только для того, чтобы сбить с толку?
…Сначала ты контрпропаганду приравниваешь ко лжи, но нужной и спасительной для страны. Зато "Поиски" тоже записываешь по ведомству контрпропаганды, только западной – и потому объявляешь их ошибочными и вредными (помощь потенциальному противнику). Еще более удивительно, что ты объявляешь без стеснения, что сам участвовал в "Поисках" как пропагандистском объекте ("популяризировал его имидж в стране и на Западе") да еще не в политических целях (а каких – личных?) подавал "Поиски" как "вещицу на рынке"… Прости, но это уже какое-то бесстыдство – мне просто трудно этому верить, я предпочитаю думать, что это очередной наговор на себя ради красного словца… похлеще всяких слов в сборнике "С чужого голоса".
Но и там, и тут я отвечу тем же: ты видишь "Поиски", как вещицу на западном рынке, как пропагандистский имидж и тем оправдываешь на деле их сегодняшних оппонентов (при внешней ругани в их адрес – обычный твой прием). Я же видел и вижу, что главным в "Поисках" и в диссидентах вообще было иное, не участие в зап.пропаганде, а поиски правды и понимание.
Так же в третируемой тобой "книжице", несмотря на массу пропагандистских гадостей, есть и выражение мнений и суждений, близких к официальной точке зрения и не воспользоваться этим сборником, как вызовом к откровенному разговору значит, на мой взгляд, изменить духу "Поисков взаимопонимания".
В твоих соображениях, какой должна быть контрпропаганда, наверное, есть резон, но мне это неинтересно, не мое амплуа. Мне даже удивителен твой горячий интерес – или тебя иные, общественные, а не госбезопасные, темы уже просто не волнуют? Последнее же твое мечтательное пожелание – предпочтение государственного единодержавия в прессе, предпочтение Комитета – просто удивительно. Зачем тебе надо рисоваться этаким мракобесом и сталинистом похлеще любого из ныне существующих? Зачем утрировать типичную логику сталиниста: раз нынешняя правит.монополия на печать малодейственна и превращается в "феодальное пользование средствами массовой информации" (метко подмечено) – значит, долой либеральный принцип "свободы печати"! Хотя, как историку, тебе хорошо известно, что авторитарная власть, как правило, всегда держится насилием, а как только то ослабевает – сменяется феодализацией и распадом целого. Выходом из последнего может стать или новый взлет насилия и авторитаризма (восточная, китайская модель) или переход к усложненной, но более устойчивой правовой модели государства с разделением властей, ну, и так далее… тебе все хорошо известно… Зачем же сейчас надо разыгрывать сталинского простака?
Далее. Твой положительный в общем отзыв о моем письме Андропову на деле сводится к тому, что ты хвалишь намерение, которое сам в него вкладываешь, приписываешь, и совершенно игнорируешь, как чушь, его содержание… "Бойтесь данайцев, дары приносящих"… В отделе писем ЦК, убежден, кроме рубрик претензий, жалоб и доносов есть огромная рубрика предложений от граждан (петиций) – куда и попадает мое письмо. Жаль, конечно, что эти письма имеют сугубо совещательный голос и могут быть игнорированы; жаль, что нет узаконенной процедуры учета мнений и голосов граждан, но и подача совещательного голоса – максимум, что сегодня для меня возможно – тоже исполнение гражданского долга. Вот и все… Придумывать же какие-то "процедурные конфликты", которые бы придавали значимость и общественный вес нашим голосам – свыше их реальной значимости – я отказываюсь. Да и нереально все это…
О твоих постраничных замечаниях коротко. Обвинение в демагогичности отклоняю и от своих предложений не отказываюсь. Зато твое соображение, что финансирование оппозиции из-за рубежа (через Фонд, например) искажает соотношения сил и мнений в обществе и потому нехорошо – мне кажется убедительным. Но отвергаю твои возражения на мое видение истории и значения правозащитного движения. Что же касается твоего освещения (и отношения) к истории Розовайкина, то меня просто передергивало от неприятия. Ты как будто обиделся за одесское начальство, погоревшее на этой истории. Слава Богу, зачеркнул свой приговор: "Розовайкин не умен, либо просчитался", но боюсь, что про себя так и продолжаешь во всех видеть лишь политиканов, умных и удачливых или неумных и потому неудачливых…
Наконец, последним и самым главным моим разочарованием было твое решение окончательно закрыть для знакомых текст твоего летнего письма в органы с изложением свое особой позиции. Я почувствовал себя обманутым. Ведь в самом тексте ты объявил: "Мое (далее изъято)
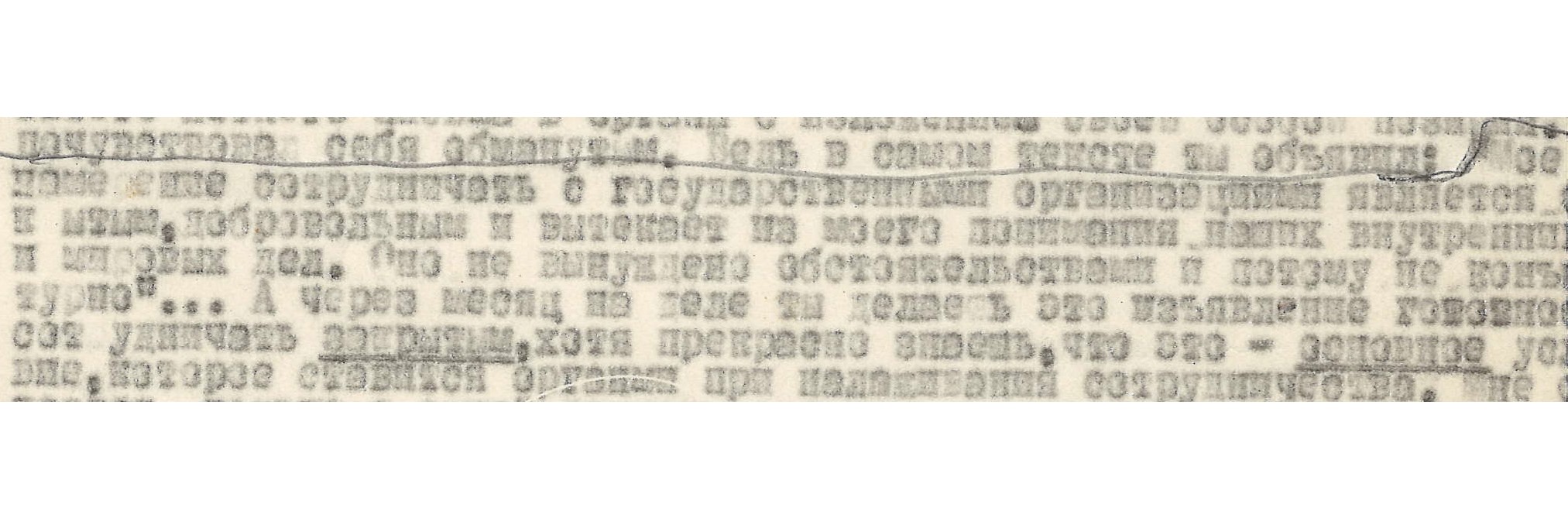
Остается только, с одной стороны, еще раз предостеречь: «Опомнись, что ты делаешь!", а с другой стороны – самому четко отмежеваться от такой практики: участником или даже наперсником тайных отношений с органами быть я не могу, поэтому не могу и хранить такие тайны. Впредь, пожалуйста, учитывай это обстоятельство и не доверяй мне подобных тайн. Думаю, что это необходимо, чтобы не оказаться ненароком в "тайных сотрудниках".
Что касается содержания твоего обращения, то меня радовала только ясность, большая, чем в иных твоих текстах, но очень удручала его суть…
(конец отрезан по требованию Глеба)
... но сохранился в машинописном архиве. Опубликовано в 2025 году после смерти Викора и Глеба